Василий Бархатов: «Спектакль должен быть убедительным»
Обычно режиссер – это человек за 30, возраст в данном случае является критерием опыта. Но нет правил без исключений, что еще раз подтвердил Иркутский государственный музыкальный театр им. Н.М. Загурского, пригласив для постановки спектакля «Призрак замка Кентервиль» 24-летнего московского режиссера Василия Бархатова.
Несмотря на столь юный возраст, у него уже серьезный опыт – шесть постановок, причем три из них на сцене Мариинского театра, и весьма неоднозначные отклики в прессе.
История спектакля «Призрак замка Кентервиль» началась полтора года назад, когда директор музыкального театра Владимир Шагин пригласил в Иркутск никому не известного выпускника Российской академии театрального искусства. А в августе в столицу Приангарья приехал номинант на Петербургскую театральную премию «Золотой софит». Василий Бархатов производит впечатление человека, который знает, чего хочет, и умеет быть убедительным. На сегодняшний день, по его словам, спектакль почти готов. Премьера мюзикла «Призрак замка Кентервиль» композитора Владимира Баскина назначена на 23 октября. После этого Василий Бархатов отправится в США, где поставит в Вашингтонской опере «Отелло».
– Василий, как вы сами объясняете свой стремительный взлет?
– Мне просто повезло. В Московской консерватории состоялся трехминутный разговор с маэстро Валерием Гергиевым, после которого состоялся еще один разговор, и мне предложили поставить спектакль «Москва. Черемушки». И этой премьерой я подтвердил свое право ставить на большой сцене.
– Как вы решили стать режиссером музыкального театра?
– Красивой истории о том, как я с детства мечтал стать режиссером музыкального театра, к сожалению, нет. Еще за год до поступления в вуз я не планировал связывать свою жизнь с театром. Потом папа предложил попробовать поступить на драматическую режиссуру. Вообще-то вся моя семья – журналисты, и я тоже должен был пойти на журфак МГУ, и был бы там уже 583-м Бархатовым. Но мой отец случайно познакомился с Розеттой Яковлевной Немчинской, которая потом стала моим мастером на факультете музыкального театра ГИТИСа. У нее в свое время учился Бергман, Исаакян и Дмитрий Черняков. Это она уговорила меня пойти именно на эту специальность. Так что я понял, чем буду заниматься, уже в процессе обучения.
– Почему были сомнения насчет музыкального театра?
– Я совершенно нормальный человек, когда мне в театре скучно, я хочу спать, писать эсэмэски или просто уйти в ближайшем антракте. И я помню, что в детстве и юности все эти походы в театр по разнарядке были мучительны. Особенно на балет. Можно было застрелиться, чем в Кремле смотреть этот ужас. Я до сих пор не совсем понимаю эту эстетику, почему люди должны изъясняться таким непонятным способом, когда можно выйти на сцену, как в драме, и все сказать.
– А разве ваша невеста – не балерина из Мариинского театра?
– Да. Но я все равно терпеть не могу балет, и она это знает. Я понимаю, что театр всегда будет условным искусством, там есть определенные правила, которые нужно соблюсти. В оперном театре такие вещи называются штампами. В него просто нанесли какой-то грязи, думая, что так и нужно. Когда, например, Татьяна, выбегая на сцену, задевает занавеску-декорацию, на которой изображен дом, и 15 минут исполняет свою арию как ни в чем не бывало. А в это время ее родовое гнездо колышется. Или когда большая тетя в рогатом шлеме поет полтора часа что-то никому не понятное. Ничего подобного, на мой взгляд, быть не должно. Музыкальный театр должен быть драматургически точен, психологически и человечески убедителен, как в драме. Для меня это главное.
– Какой из спектаклей был наиболее сложен?
– Самый важный для меня спектакль «Енуфа» Леоша Яначека, который я поставил в Мариинском театре. Дело даже не в том, что это была моя первая большая работа. Я всегда знал, что у меня сил хватит на масштабную оперную постановку. Это был достаточно серьезный шаг, потому что произведение было мне близко. Эта работа стала для меня переломной. Кроме того, здесь дело еще и в авторе, для меня композиторы Яначек и Бриттен – два совершенно фрейдовских клиента, со своими сложными психологическими болезнями. Они создали для меня круг композиторов, с которыми очень интересно работать.
– А когда возникло предложение поработать в Иркутске?
– Первый разговор с Владимиром Константиновичем у нас был года полтора назад. Мы познакомились в Большом театре на гастролях Ростовского музыкального театра в Москве. Нас познакомили, мы разговаривали, и предложение поступило почти сразу.
– Артистов, с которыми вы работаете, не смущает ваша молодость?
– Меня спасает то, что на некоторые вещи я просто закрываю глаза. Наверное, что-то такое периодически происходит, но я настолько знаю, чего хочу добиться на репетициях, до движения мизинца, что не возникает пустот. Артистам просто некогда возмущаться, а через некоторое время становится и не до того. На репетициях я внешне спокоен, а внутренне переживаю из-за каждого пустяка, потому что все должно быть идеально, ничего нельзя упускать. Я очень мнительный человек и все глубоко переживаю. Так что фраза «Репетиция – любовь моя» не про меня. Но потом, когда я выкладываюсь и у меня получается этим спектаклем убедить самого себя, я получаю удовольствие.
– А что для вас современный театр?
– Есть театр современный, а есть осовремененный. Вот, например, одеть Аиду в джинсу и не наполнить соответствующим содержанием – это не решение. На самом деле мне, как и большинству зрителей, интереснее современные истории. Например, «Аида» Верди не была написана о египетских пирамидах и фараонах, это история про определенные человеческие обстоятельства, которую можно рассказать многими способами. Поэтому современный театр и ищет новые формы. Но эта форма должна иметь содержание и оправдывать себя от начала до конца.
У меня скоро состоится премьера «Отелло» в Мариинском театре, и там будет достаточно необычная форма для этого произведения. Но я абсолютно уверен, что я не отхожу от партитуры Верди. Отелло и Дездемона сегодня стали героями анекдотов, как Петька и Василий Иванович, поэтому хочется рассказать эту историю с другими именами. Например, если бы в Иркутске, в Военном городке, полковник пристрелил свою жену из ревности, все бы сказали: какой кошмар.
– А история «Призрака замка Кентервиль»?
– Есть произведения, близкие всем с детства. Даже если кто-то не читал Оскара Уайльда, в голове возникает советский мультик. И, наверное, на уровне бессознательного что-то из этой истории в каждом человеке есть. Но она совсем не детская. Для меня проблема номер один в этом мюзикле – человек и его дом. Ведь, например, можно было сыграть эту историю в петербургской коммуналке, из которой выселяют старого генерала, занимающего жилплощадь, где его внуки могли бы размножаться. А политическую историю про Америку и Англию я намеренно старался смягчать. Во времена Уайльда это было остроумно, во время холодной войны это еще срабатывало, но сейчас, когда даже малыши знают, что американцы какие-то неполноценные люди, лишний раз об этом шутить просто грех. Поэтому я все это перевел в другую плоскость.
– Как вам работалось с труппой нашего музыкального театра?
– Труппа очень хорошая, в ней есть одно большое качественное отличие от трупп других крупных театров – ошеломляющая вера в то, что происходит на сцене. Полная самоотдача и постоянный поиск решения роли. Если я даже на 15 минут выключусь, этот ядерный реактор продолжает работать. Мне говорят: вот вы в последнее время не делаете замечаний на репетициях. А я даже устаю говорить, что это хорошо. Ваши актеры очень хорошо чувствуют манеру, в которой я работаю, и никогда не выходят из заданной формы спектакля. Такая преданность произведению и творческому процессу сейчас большая роскошь.
– Вы не только режиссер, но еще и сами придумываете сценографию…
– Первые три спектакля я выпускал еще и как сценограф, потому что долго не мог найти своего художника. Ведь сценография – это часть режиссуры. И очень важная. Точно так же, как человек, представляя свое первое свидание, знает, как это должно выглядеть: вот здесь я свечечки поставлю, тут скатерть будет зеленая, здесь то, здесь се. И я также знаю, в каких условиях должен проходить мой спектакль, а дальше уже дело техники. Например, в «Призраке замка Кентервиль» на сцене не будет замков, скорее его декорации подошли бы к «Вестсайдской истории». Кстати, во время репетиций мне пришлось даже поменять некоторые моменты в пьесе. Я просто понял, что моралите в финале с появлением Оскара Уайльда излишне. Поэтому некоторые фразы этого монолога перешли к призраку.
– Вам нравится музыка в этом спектакле?
– Да, это по-человечески очень трогательная музыка. Я слышал многие современные мюзиклы и рок-оперы, и это хороший пример того, как популярная музыка может быть драматургически насыщена. Вот в этом Владимир Баскин превзошел многих современных композиторов.
– Скажите, родители-журналисты – ваши критики или советчики?
– Никогда не забуду, когда после моей первой премьеры в «Геликон-Опере» мама сказала: если весь этот бред – из твоей головы, я тогда ничего не знаю. Они, конечно, что-то говорят, но я никого не слушаю. Для меня не существует 100-процентного авторитета. Я сам знаю, получилось или нет, что было упущено, а что попало в точку.

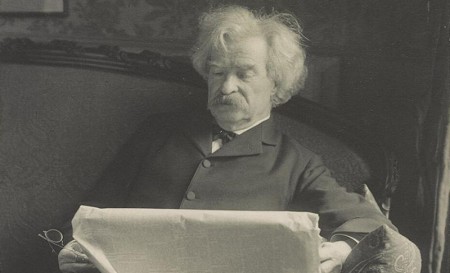





_04131713_b.jpg)