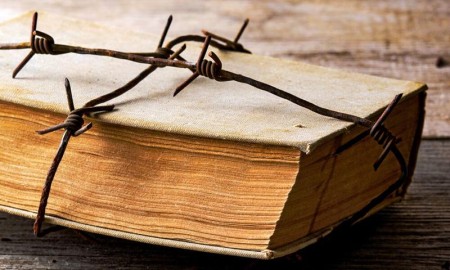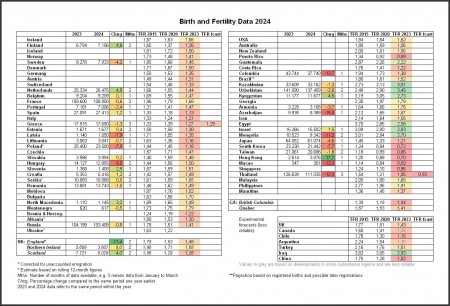Россия: способ существования
Где искать национальную идентичность и как с ней жить.

Алексей Иванов фактически придумал Пермь. В романе «Сердце Пармы», принесшем ему известность, он взял историю Великопермского княжества и из судьбы последнего пермского князя Михаила сделал фэнтезийный триллер о том, как тот пытался противостоять и Москве, и Казани, и свирепым соседям-вогулам, и злой судьбе. Иванов смешал волшебство и факты, реальных исторических деятелей, шаманов-смертников, ведьм и боевых лосей; в результате в сознании читателей Иванова Пермь превратилась в волшебный край с живой историей. В 2009 году туда приехал московский галерист Марат Гельман, создал Музей современного искусства, стал проводить фестивали с участием столичных поэтов, актеров и режиссеров и превращать город в «культурную столицу России». И тут выяснилось, что Пермь Иванова и Пермь Гельмана — это разные города. Что у них общего и могут ли они вообще быть на одной карте России?
Пермь
Жителю Москвы вроде меня, который на Урале никогда не был, отрадно, что Пермь становится культурной столицей. Думаешь: может, теперь у нас пробок будет меньше. А там люди будут жить получше. И, не вдаваясь в детали, думаешь, что Алексей Иванов и Марат Гельман делают одно дело...
Ага, щас.
…А потом выясняется, что они не только не союзники, но и злейшие враги.
Издалека многим кажется, что Уругвай и Парагвай — это одна страна. Мой враг — местная власть, которая отдала местную культуру на усмотрение Гельмана. А Гельман ничего хорошего в ней не усмотрел. Он вообще создал структуру, которая называется «Культурный альянс» — будут распространять опыт пермской культурной революции на другие регионы. Теперь местная культура начнет загибаться везде, куда придет этот мезальянс.
А уже много кто загнулся?
За два года не поддержано ни одно местное начинание. Закрылся фестиваль KAMWA, лучший финно-угорский фестиваль России. Галерея лишается своего помещения, а пермские боги едут за границу (Пермская государственная художественная галерея находится в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора, которое должно быть передано РПЦ; часть коллекции шедевров пермской деревянной скульптуры была отправлена в 2010 году на экспонирование во Францию. — «РР»). Для деревянных скульптур это катастрофа: их даже с места на место в зале передвигать нельзя. Главный хранитель в знак протеста уволился, а нашим бонзам безразлично. Прекратил свою деятельность главный местный меценат — фонд «Новая коллекция». Даже главный наш столичный меценат — сенатор Сергей Гордеев, который и привез к нам Гельмана, — разочаровался и ушел из края.
Я недавно говорил с одним важным чиновником и высказал свое требование: пятьдесят процентов пермского культурного бюджета тратьте на московских деятелей, а пятьдесят процентов — на пермских. Но и с таким требованием я выгляжу как идиот, потому что должно быть сто процентов на своих и ноль — на остальных. Разве бюджет города Москвы раскошеливается на пермских режиссеров, художников, музыкантов, артистов? Почему пермский должен раскошеливаться на московских? Я говорю о финансировании культуры, а не о художественных достоинствах и недостатках. Достоинства московского продукта — второй вопрос, дискуссионный. А финансирование — первый вопрос, без альтернативы: местные деньги собираются с местных налогоплательщиков и должны идти на местные нужды. На московские и федеральные нужды и так идут наши налоги.
В городе вопиющие проблемы с состоянием культуры. Зоопарк у нас на Архиерейском кладбище, где лежат самые уважаемые жители города. Нет своего издательства, киностудии, даже литературного журнала нет. Я уж не говорю про какой-нибудь мюзик-холл.
Но это еще полбеды. Настоящая беда в том, что власть решила сделать из Перми эдакий косопузый и колченогий «Винзавод» и в 2016 году объявить его культурной столицей Европы. Убиться веником! Губернатор твердит: «У города должна быть мечта». Я так мечтать не хочу. Широко шагаешь — штаны порвешь! Я хочу, чтобы Пермь стала хотя бы просто Пермью — аутентичным городом, который адекватен своему культурному потенциалу. С интернетом и открытыми границами мир давно стал глобальным. А в глобальном мире ценно уникальное. Какого черта мы гробим свой эксклюзив?
А что было в Перми до Гельмана?
В Перми есть набор брендов, имеющих мировое значение: пермский период (последний период палеозоя, начался 299 млн лет назад и длился 48 млн лет. — «РР»), звериный стиль (вид бронзового литья, распространенный от Камы до Енисея в VII–XIIвеках. — «РР»), деревянная скульптура. Вот их и надо актуализировать. В крае имеется еще и никак не используемый эксклюзив: тут и город-остров Строгановых (город Усолье на острове посреди Камы. — «РР»), и памятники времен Ермака, и заводские комплексы уральской горнозаводской цивилизации. Есть разные чудеса вроде Молёбки с инопланетянами (излюбленное уфологами село в Пермском крае, считающееся центром паранормальной активности. — «РР») или крупнейшей в России подводной пещеры.
Есть и набор современных институций: театры, не раз получавшие «Золотые маски», фестиваль кинодокументалистики «Флаэртиана», музей истории политических репрессий и тоталитаризма «Пермь-36», культуртрегерский фонд «Юрятин», та же KAMWA... Активировать культуру надо через эти вещи, а не через совриск. Когда я слышу, что до Гельмана здесь ничего не было и никто ничего не делал, хочется ткнуть человека в экран компьютера и посоветовать: «Посмотри в Google, умник».
И все-таки бренд из Перми сделали именно вы. Это особенность Пермского края или в других регионах вам тоже удалось бы найти столько местной истории, колорита, деталей?
Если бы жил, нашел бы. Но это не моя проблема, а общероссийская — когда толща местной культуры остается вне осмысления и вне актуальности.
Кажется, Петр Вайль писал, что Пермь считается последним городом Европы...
Какая разница, сколько километров до границы Европы с Азией? Прямо на границе стоят Магнитогорск и Оренбург, тоже не маленькие. Все равно и Томск, и Новосибирск, и Владивосток — европейские города. А самый европейский город России — Ханты-Мансийск.
А зачем все-таки Перми Москва?
Москва — точка отсчета. Норма современной России. Все остальные русские города и миры оцениваются по степени отличия. Но отличия бывают качественные и количественные. Количественные — это когда труба пониже и дым пожиже: дороги поуже и зарплаты похуже. А качественные — когда иной контент. У Перми было качественное отличие от Москвы, а его насильно заменяют на количественное.
А что-нибудь помимо этих «московских стандартов» связывает наш мир? Мобильность населения у нас низкая. Вот вас, например, сложно вытащить в Москву: насколько я знаю, вы довольно редко здесь бываете.
Наши миры — не раздельные явления. Они как грани алмаза: грани могут быть разные, но алмаз один. Проблема модернизации ведь не в том, чтобы вытеснить локальное глобальным, а в том, чтобы найти в глобальном локальное, а в локальном глобальное. Лично у меня мобильность высокая, только она почти вся мимо Москвы. Я езжу туда, где у меня есть дела. В Москве у меня их нет. От Перми до Оренбурга, например, расстояние почти такое же, как от Москвы до Варшавы; но почему, если я еду из Москвы в Варшаву, я совершаю путешествие, а если из Перми в Оренбург — значит, сижу дома как приколоченный?
С точки зрения жителя Москвы, существует только одно движение — в Москву. И еще за границу.
А с моей точки зрения, существует множество движений. Когда мы начали снимать фильм «Хребет России», для многих в телекомпании «Намедни» было открытием, что расстояние от Перми до Москвы такое же, как от Перми до Тобольска. То есть мы снимали на территории, равной половине европейской России. Но эта территория не считается, ее нет для москвичей: ты говоришь, что путешествовал по России, а про тебя думают, что ты не вылезаешь из своей норы и ничего на этом свете не видел.
И много путешествуют в той же Тюменской области?
По статистике, на Урале процент населения, которое отдыхает в пределах своего региона, вдвое выше, чем в среднем по России. У нас большое многообразие ландшафтов: от степей до гор буквально два часа езды на машине. А если смотреть на города, то Оренбург мог бы, скажем, напоминать Стамбул, если бы развивался органично — с караван-сараем и прочим колоритом. Уфа — очень приятный южный город, похожий на Одессу, только с тюркским оттенком. Екатеринбург — помесь патриархального Сергиева Посада с хайтековским Шанхаем: он по-уральски наглый, и ему плевать на Москву. Пермь — огромная губернская столица, русская провинция в чистом виде. Ну и так далее.
В книге и сериале «Хребет России» вы развиваете идею «уральской матрицы»: мол, регион формирует особенности проживающих в нем людей...
Не так прямолинейно. Ландшафт, климат, природа и недра предопределяют наиболее эффективный способ хозяйствования. А уже он формирует ценности местного социума. Если в степи у русских наиболее эффективными были казачьи хозяйства, то и у социума казачьи ценности: справедливость и равенство. Если на Урале наиболее эффективны заводы, то и у социума заводские ценности: труд да работа. Так же и в Центральной России, и в Поморье, и в Сибири, и в Приморье, и в национальных регионах.
Так где, кстати, проходит, по-вашему, граница Европы и Азии?
В Оренбурге есть ученый — Александр Чибилев. По гранту Российского географического общества он уточняет границу Европы и Азии. Вроде бы краеведческое дело — где поставить обелиск: в Оренбурге или в Орске? Но Чибилев завершает дело, начатое Птолемеем. И по результатам его работы треть Казахстана окажется в Европе, Казахстан сможет войти в Евросоюз и азиатская цивилизация вторгнется в оплот европейской. Вот это — глобальное в локальном.
В Оренбурге Чибилев основал единственный в России Институт степи. Ничего такого в Перми ему бы не светило — не потому, что степи нет, а потому что власть такая. И одна из идей этого института — перевод животноводства на полукочевой принцип, потому что степи плодороднее полей и лугов. Эта идея — тот самый постиндустриальный продукт, который дает модернизация культуры по местной идентичности, а не по актуальному искусству.
Башкирия
Один из мифов про вас — что Иванов никогда за границу не ездил и заграницей не интересуется.
Иванов очень занят, Иванову просто некогда. Вот когда у меня появится там дело, тогда я туда и поеду. Пока дела нет. А просто тусоваться мне уже неинтересно. Надо было ехать тогда, когда была куча свободного времени. Я двенадцать лет пролежал на печи, а теперь хочется работать.
В истории русской литературы есть два больших писателя, которые никогда не были за границей: вы и Пушкин. Но Пушкина-то не пускали.
Меня, между прочим, тоже не пускали — нищета не пускала. Не так уж и давно я стал состоятельным писателем. Теперь мне по карману съездить за границу, но в Европу пока не за чем. Я бывал в Узбекистане и Казахстане, ездил в Уральск и Атырау, бывший Гурьев. Это мне нужно для книги о Пугачеве. Хотя я на сто процентов уверен, что эти вояжи никто не расценит как заграничную поездку.
Расскажите про книгу о Пугачеве. Это еще одна параллель между вами и Пушкиным, кстати.
Мне бы хотелось осветить вещи, которые Пушкин чисто технически не мог осветить, потому что они в то время не были вербализованы. Для Пушкина пугачевщина была войной черни против знати. В советское время ее понимали как войну угнетенных против эксплуататоров. А в наше время ее можно трактовать как борьбу за идентичность: яицкие казаки не хотели жить как оренбургские, башкиры не хотели жить как русские, крестьяне не хотели жить как рабочие, рабочие не хотели жить как казаки и так далее.
Борьба за идентичность принимала разные формы. В степи казачий бунт, на заводах гражданская война, в Башкирии — национально-освободительная. В Башкирии двести лет каждое новое поколение выходило на войну против России — но не против русских. Это были войны, которые могли порушить державу.
Например, когда Петр I воевал с Карлом XII, главная-то угроза была не от Швеции, а на юге, где башкиры подняли татар, калмыков и всех прочих инородцев вплоть до горцев Кавказа, а Кондратий Булавин планировал, если что, уйти к турками и наготове к вторжению стояли войска крымского хана и турецкого султана. Но Петру неинтересно было воевать с азиатами: ему, как европейцу, хотелось с европейцами. Поэтому и в школе мы изучаем Полтавскую битву, а не то, как русские войска гасили пожар в подбрюшье России.
Проблема в том, что победа над Карлом XII все-таки лучше, чем победа над своими же подданными, пусть и башкирами. Кто ж будет гордиться победой над своими?
Во времена Петра восстания собственных подданных не были вопросом качества власти. Это сейчас мы понимаем: если подданные бунтуют, значит, власть плохая — несправедливая или слабая. А тогда бунты были в порядке вещей — абсолютизм же, не демократия.
Проблема в том, что идентичности никуда не деваются, а значит, и конфликты остаются. Либо между национальностями, либо между столицей и провинцией. Это же разные миры. Чтобы согласовать их друг с другом, их надо хотя бы знать. А чтобы их модернизировать, надо опираться на реальные особенности региона. Мы ведь блины и калачи выпекаем по-разному, хотя тесто везде одинакового состава.
И противоречия сохранились?
Конечно, не такие сильные, как прежде. Но они есть. Например, недавно я открыл великую башкирскую тайну. Мне всегда было интересно, почему в Пермском крае вдоль дорог огромадный бурьян, а едва въезжаешь в Башкирию — его нет. В чем дело? То ли климат меняется за административной границей, то ли растительность особенная, безбурьянная. И вот недавно в Башкирии я увидел: едет трактор и стрижет траву на обочинах. А ведь этот вопрос решают не губернаторы. Просто для башкира бурьян невыносим, а для русского — нормально. Это разница региональных ментальностей.
В Башкирии повсюду висят лозунги: «Башкирия и Россия навеки вместе». По Фрейду, соответственно, надо читать: «Башкирия и Россия навеки порознь». Этот совершенно нелепый сепаратизм объясняется тем, что неверно трактуется идентичность. А это как неверный диагноз, который лишь усугубляет болезнь. То есть пока не разобрались, в чем суть башкирской идентичности, не могут разобраться и с сепаратизмом.
В пугачевщину башкиры составляли половину войска бунтовщиков. Лидером их был Салават Юлаев. Пугачева казнили, а Салавата нет. Почему? Потому что Пугачев был против Екатерины — вроде как воскресший ее муж, царь, личный враг. А Салават против Екатерины ничего не имел: он хотел отделить Башкирию от России, он был политическим врагом. А личный враг в России всегда страшнее политического.
Башкиры сами вошли в состав России, но при этом двести лет вели против нее войны. У них было полукочевое хозяйство, которое требовало личной свободы работников, общинного землевладения и местного самоуправления; а в России башкир записали в крестьяне, которые ни на что такое прав не имели. Вот они и бунтовали: «Мы уходим, если вы не понимаете, что мы башкиры, а не русские крестьяне». До этой идентичности Российское государство добралось только после Салавата. И башкир — всем народом — переписали из крестьян в казаки, создали иррегулярное Башкиро-мещерякское казачье войско. Одной бумажкой башкиры получили все, что хотели, и бунты кончились — как рукой сняло. Через 10–15 лет башкирские полки входили в Париж вместе с гусарскими.
Сейчас эта проблема снова не решена?
Решена неправильно — значит, не решена. Клан Рахимовых приватизировал нефтянку республики и этим профинансировал сепаратизм. Но Рахимов не учел, что у башкир никогда не было своего хана, а Рахимов построил ханство. Поэтому, например, случилось побоище в Благовещенске, а недавно в какой-то районной школе школьники целовали чиновнику ботинок. Но ханство для Башкирии неприемлемо, Рахимов совершил смысловую ошибку: он подумал, что идентичность башкир заключена в исламе, а исламские государства — деспотии. Только исламом башкирская идентичность не исчерпывается. Проблема Башкирии не решена, потому что не определена ее идентичность.
Россия
Вот у вас в «Сердце Пармы» есть вогулы. Страшные такие. А в «Золоте бунта» мы уже читаем, что вогулов этих почти не осталось. И уничтожили их положительные герои «Сердца Пармы» — те самые, за которых так переживаешь: русские мужики, князья и их ратники. Пришли к вогулам с мечом и водкой и почти полностью их истребили. Зато теперь мы из их земель качаем нефть и газ. История все-таки должна быть предметом гордости, а можно ли гордиться такой историей?
Вогулы, то есть манси, все-таки сохранили себя, обрели нечто вроде государственной структуры. Могли погибнуть, но уцелели, отступая и отступая. Сейчас Россия качает из их земли нефть и газ, но хозяева той земли уже начинают перевоспитывать страну. В Югре сформировалось нечто вроде комплекса вины белого человека: именно через хантов и манси там идет самоидентификация региона. Там даже подразделение «Шелл» имеет логотипом местный орнамент. Если бы земля была ничья, промысловики ее уничтожили бы. А сейчас комплекс вины заставляет заниматься экологией и вкладываться в малые народы севера. Промышленное освоение тех земель — сплошное преступление, но сбереженная идентичность переформатирует эти процессы. Идентичностью можно гордиться, преступлением, конечно, нет.
А как вы считаете: России, русским надо вообще перед кем-то за что-то извиняться? Перед теми же вогулами, например?
Это дела давно минувших дней. Признавать историческую вину — это и есть извинение, а расшибать лоб, каясь, и делать то же самое — лицемерие. Я понимаю, например, что часть татар требует, чтобы Россия покаялась за взятие Казани Иваном Грозным. Но на самом деле татары требуют не сатисфакции за прошлое, а уважения к себе как второму народу России в настоящем.
Уральский менталитет можно распространить на всю страну?
Можно. Но не нужно. На мой взгляд, уральская команда Ельцина как раз и распространяла уральский менталитет на всю страну. В понимании уральца демонтаж Советского Союза — это приватизация предприятий. Такое в истории Урала случалось трижды, а больше нигде в России подобного не было. И все три раза все происходило так же, как недавно при Ельцине. А потом государство частично отыгрывало назад, что и делают силовики при Путине.
Знала команда Ельцина историю Урала или не знала, не важно. Для уральца свобода — это в первую очередь возможность приватизировать промышленность благодаря близости к власти. А в то, что свобода — институт частной собственности, отделенный от государства, уралец советской эпохи поверить не мог. Нынешняя олигархия, перерастающая в госкорпорации и коррупцию, — наследие локального дискурса, который вытеснил глобальный. Идентичность не идеология, она не может быть всеобщей.
По-вашему, приватизация в России удалась?
России удалось главное. Однажды я предъявлял Анатолию Чубайсу все обычные пенсионерские претензии к приватизации, и он ответил, что я прав, все так и есть, но я не замечаю главного: при всех недостатках в России появились частная собственность и свобода передвижения, этого уже не отнять — а значит, реформа в историческом смысле оправданна. Значит, не все плохо и в вопросе приватизации. В общем, стратегически у нас получилось, а вот тактически — провал за провалом.
Это говорит человек, который не ездит за границу...
Ну и что, я же могу съездить. То, что я не езжу, — это мой выбор. Но возможность есть — и это мое право. И я буду отстаивать и свой выбор, и свое право.
Хорошо, с уральским менталитетом понятно. А сепаратизм уральский есть?
Да. Помните, был проект Уральской республики? Это бред. Но тем не менее он абсолютно в уральской традиции. Всю дорогу Урал пытался отсоединиться или обособиться. Потому что так выгоднее уральским владыкам: быть королем небольшого королевства, а не графом в большой империи.
Независимый Урал может существовать?
Может. И Татарстан может. Многие регионы могут существовать самостоятельно. Но зачем? Общая матрица все равно русская, даже в национальных регионах. Например, татары, какими бы они ни были мусульманами, — люди европейского менталитета.
А Россия — Европа?
По большому счету да.
Вплоть до Владивостока?
Географическое местонахождение не имеет значения. Европейская цивилизация — это цивилизация, где сверхценность — свобода. В азиатской цивилизации свобода вообще не ценность. А для русской цивилизации свобода — ценность, но не главная. Поэтому мы не межеумки между Европой и Азией, а маргиналы Европы.
В России вообще нет общей сверхценности. Я имею в виду не людей, а социумы, из которых состоит Россия: северный, уральский, южный, среднерусский, сибирский. На рабочем Урале сверхценность — труд. На казачьем юге — справедливость и равенство. В крестьянской Центральной России — собственность и власть. В промысловых Поморье и Сибири — предприимчивость. Свобода везде ценность под номером два. Но все-таки ценность. Поэтому на Россию нельзя натягивать один-единственный способ существования. Ни уральский, как при Ельцине. Ни московский, как сейчас.
Биография:
Алексей Иванов родился в 1969 году в городе Горьком (Нижнем Новгороде), в Перми живет с 1971 года. Учился в Уральском государственном университете. В 1990 году вышла его дебютная повесть «Охота на “Большую Медведицу”». В 2003 году — романы «Сердце Пармы, или Чердынь — княгиня гор» и «Географ глобус пропил», которые принесли ему громкий успех. В 2005-м он выпустил исторический роман «Золото бунта, или Вниз по реке теснин», в 2007-м — авантюрный роман про современную Россию «Блуда и МУДО» и краеведческую книгу «Message: Чусовая». В 2010 году сделал книжную версию совместного с Леонидом Парфеновым телепроекта «Хребет России». Лауреат премии «Книга года 2006».