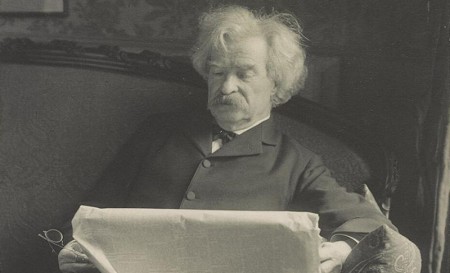Первый из могикан
Хмелев умер в 1945 году. Умер так, как и должны умирать артисты, - в театре в день генеральной репетиции. Шла трагедия Алексея Толстого "Трудные годы". Хмелев играл Иоанна Грозного, и, по свидетельству очевидцев, эта роль должна была стать лучшей в репертуаре артиста и одной из лучших в истории русского театра. Мхатовские репетиции по времени почти совпали с работой над первой частью "Иоанна Грозного" Эйзенштейна, но вместе с режиссером спектакля Алексеем Поповым Хмелева менее всего занимала задача реабилитации свирепого монарха. Равно как и его безоговорочного осуждения. Грозный обещал стать образом шекспировского размаха, шекспировской сложности и шекспировской глубины. После смерти Хмелева эту роль стал играть Михаил Болдуман и играл вроде бы неплохо, но трагический масштаб был безвозвратно потерян. Как и сам Грозный, Хмелев тоже был соткан из противоречий, разумеется, куда менее страшных и губительных. Он всю жизнь исповедывал театральную религию МХТ, но во многих ролях тяготел к острому гротескному рисунку, экспрессионистским, резким мазкам. Именно так играл он Шпигельберга в "Разбойниках" Шиллера, Ушакова и Бирона в "Елизавете Петровне" Д. Смолина, Костылева в "На дне" и одну из самых знаменитых своих ролей, князя К. из "Дядюшкиного сна" Достоевского (1929) - несчастное, разлаженное существо, состоящее из живой плоти и врезающихся в эту плоть шарниров. Он часто шел от внешнего к внутреннему, очень много внимания уделял гриму, а работу над ролью почти всегда начинал с того, что рисовал портрет своего героя (в юности Хмелев увлекался живописью и даже мечтал поступить в Строгановское училище). Будучи человеком из простой семьи (он родился в 1901 году в Сормово, где отец работал мастером паровозно-строительного цеха), Хмелев всю жизнь тяготел к ролям аристократов и интеллектуалов. По выражению Инны Соловьевой, он любил играть "драмы ума". Особая интеллектуальная окрашенность чувствовалась и в Алексее Турбине из "Дней Турбиных" Михаила Булгакова (1926), и в Тузенбахе из "Трех сестер" (1940), последнего великого спектакля Немировича. Драму ума собирался показать он и в образе Астрова, но задуманный в 1940 году "Дядя Ваня" так и не был осуществлен. Мечтал о "Гамлете" и даже начинал с Немировичем работу над пьесой, но и этот спектакль не выпустили. Любопытно и то, как он изменил трактовку инженера Забелина в "Кремлевских курантах" Николая Погодина. Михаил Тарханов играл его ученым-самородком, немного не от мира сего. Хмелев - человеком, коренным образом связанным с культурой города и чувствующим себя ее наследником. Но это не помешало ему со всей силой своего таланта ! осудить "бывших" в этапной для МХАТа постановке пьесы Горького "Враги" (1935), где старому миру выносился не подлежащий обжалованию приговор. Социальный пафос пьесы Хмелев, по-видимому, искренне разделял, и прокурора Скроботова, носящего свой мундир как непроницаемый панцирь, не щадил. Он попытался напоследок дать трагический портрет тирании, но сам был любим тираном и отвечал ему взаимностью. Сталин восхищался его Турбиным, а после "Анны Карениной" ему вместе с Аллой Тарасовой сразу, в нарушение обычного порядка присвоения званий "дали народного СССР". Шел 1937 год. Феноменальная одаренность Хмелева вкупе с благосклонностью к нему отца народов обеспечили ему совершенно особое положение в труппе МХТ. Он числился артистом "второго призыва", то есть к ветеранам Художественного театра (в число которых входили Иван Москвин, Ольга Книппер-Чехова, Василий Качалов) не принадлежал. Но фактически считался "стариком" - входил в руководство театра (так называемые "шестерки" и "пятерки") еще при жизни отцов-основателей, принял на себя ответственность за труппу в годы войны, когда Немирович был в эвакуации в Тбилиси. Именно Хмелеву Немирович-Данченко после своей смерти завещал МХАТ. Это был поступок одновременно и предопределенный и прозорливый. Ибо, будучи плоть от плоти своей эпохи, Хмелев в плане эстетическом был на удивление не догматичен. Он в равной степени владел всеми театральными стилями, мог играть и по-мхатовски, и по-мейерхольдовски, и в традиции Малого театра (именно так играл он Силана из "Горячего сердца"), а мог и с подлинно трагичес! ким накалом. Ему - в отличие от многих корифеев Художественного - было совершенно не свойственно начетничество. Своей жизнью он лишний раз доказал, что чуткому художнику не может помешать самая вредная идеология. По трагической иронии судьбы главную роль, в которой эстетика, история и идеология вступили в непримиримую вражду, он так и не сыграл. Пока он был жив, еще оставалась надежда, что великий театр возродится. После его ухода агония МХАТа закончилась. Наступила смерть