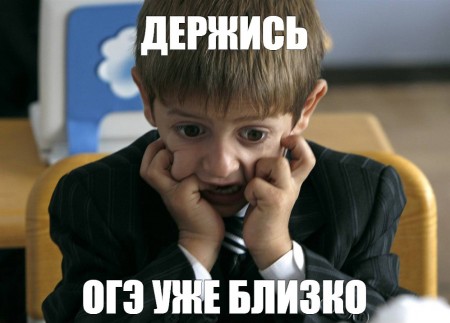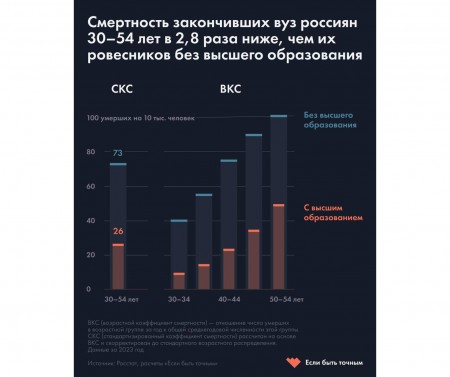Где учителю жить хорошо. Часть II: обсуждение
Директор одной из самых известных московских школ рассказал о том, как он видит суть работы учителя, об условиях, которые необходимы для того, чтобы ему было комфортно работать, о том, как блокировать вал ненужной опеки и информации.
Обсуждение лекции
Борис Долгин: Кто служит инициатором этого вала отчетности? Какой уровень управления? Какова мотивация, – как будто бы время от времени с самого верхнего уровня управления образованием время от времени раздаются сигналы типа: «Нет! Мы не хотим этого!» – что это? Как это возникало, – если я правильно понимаю, имеется даже определенная динамика увеличения этого вала? И как от этого избавляться в том смысле, что удается ли Вам, например, или некоторой школе блокировать этот вал? Можно ли сказать, ничего себе не испортив: «Вы знаете, вот это и вот это – действительно законные пожелания по отчетности, и их я обязан выполнить, а вот это – не буду, извините, нет времени»?
Сергей Бебчук: Я начну отвечать с конца. Можно избавиться от отчетности многими способами. Если говорить об учителях, то их отчетность вообще ни откуда не возникает. Я не знаю, откуда она возникает. Дело в том, что у нас, за 20 лет существования школы, ни один учитель не заполнил ни одной бумажки. Даже когда происходила аттестация на высшую категорию, те 2 или 3 таблички, которые учитель должен подготовить к этому процессу, заполняла секретарь, потому что все, что в этих табличках есть, – все известно: победитель каких олимпиад, в каком вузе учился, какой стаж.
Борис Долгин: А план урока, например?
Сергей Бебчук: План урока кому нужен: мне или завучу?
Борис Долгин: Завучу?
Сергей Бебчук: Он не нужен завучу. Если он ему нужен, этого завуча надо немедленно уволить, причем без выходного пособия.
План нужен учителю, причем в очень специфическом виде. Я начал с того, что учителю нужна свобода – свобода осуществлять экспромт. Поэтому поурочный план написать в принципе нельзя: «В этом году я на эту тему потратил 3 урока, в следующем году потрачу 5 уроков» – это нормально. – «А в этом году я эту тему вообще пропустил, потому что она показалась мне не столь важной». – Дети увлеклись чем-то другим, я потратил больше времени в другом месте и дал ее для самостоятельного изучения. Это мое дело. Никаких бумажек такого типа не нужно.
Нужно, безусловно, иметь некие схемы, которые позволяют синхронизировать различные предметы. Но этот высокий пилотаж, ни в каких школах не присутствует – он как раз есть у нас. У нас математик будет съеден физиком, если к нужному моменту он не изучит квадратное уравнение и квадратичную функцию, потому что механика без этого просядет, а если химик не пройдет нужное для биолога, то от химика останутся рожки да ножки. Это сетевое взаимодействие учителей, завуч тут лишний.
Да, мы должны заранее договориться, к какому моменту какие темы из других предметов важны для моего предмета, а какие – нет, и тогда они могут быть пройдены в любой момент и потом это согласовывать. Но я не вижу, откуда могут возникнуть какие-то более жесткие меры воздействия. Короче, нет, бумажек мы никаких не заполняли за 20 лет.
Что касается бумажек во вне, то они действительно валятся валом. Валятся по разным причинам: некоторые из них валятся, потому что нет культуры владения компьютером. Электронное письмо надо разослать в 15 адресов, но ведь лень эти 15 адресов выбрать – есть список из 200 школ – шарах по 200 адресам. Вы зря смеетесь: 40 писем ерунды в день, пока директора 2 года назад не взбунтовались, было нормой. Ну, и 10 писем – по делу. Писем без темы было несколько лет назад с десяток в день. Надо было залезть в почту и увидеть, что это письма про начальную школу, а у нас, например, начальной школы нет, и я в ярости.
Недавно мы все-таки добились того, чтобы письма стали приходить с темой; а я просто поставил «антиспам»; пустая тема – в спам. Любые претензии ко мне на этот счет заканчивались фразой: «Да, мне шлют столько писем про покупку унитазов, которые еще и без темы, что мне пришлось поставить «антиспам». Если вы хотите, чтобы я прочитал, напишите ясную тему».
В общем, поскольку, я был такой не один, за 2-3 года приучили. С другой стороны, с точки зрения нас, школ, было бы разумно облегчить отправку электронных писем, потому что сейчас для того, чтобы отправить письмо в школу, надо его отнести на подпись к главному начальнику, чтобы он дал визу, можно это письмо по школам разослать или нельзя. Я возвращаюсь – отсутствует культура. Там начальство не доверяет своим подчиненным, потому что они валом валят письма, они не могут понять, важное их письмо или нет, и это не хорошо.
Вторая составляющая, кроме отсутствия культуры, – это желание всем управлять. Это нормальная позиция чиновника: он хочет всем управлять, все знать, и превратить школу в такое подобие места, которое как бы находится за стеклом, как в известном проекте, чтобы можно было в любую секунду посмотреть: а что там пишут в данный момент шестиклассники на уроке истории?
Как во Франции. Видимо, опыт Франции такой заманчивый для наших чиновников, что они хотят все знать и все контролировать, поэтому, наверно, они и высылают такое количество бумажек. Самые абсурдные приходят про субботник: сколько человек вышло с лопатами, сколько – с носилками, сколько квадратных метров цоколя было промыто, сколько газона было програблено. В них строк 50-60, и я не шучу. Два экрана – точно. Вот такого типа бумажки – я бумажками называю экраны, потому что в реальности бумажные бумажки в школу уже почти не приходят – приходят достаточно регулярно: 3-5 в неделю про разное не пойми чего.
Вчера прислали, а к вечеру надо уже было ответить: нужно было прислать среднюю зарплату основного педагогического персонала, среднюю за 2012 год сумму по управленческому персоналу и зарплату директора. Можно подумать, они у себя в бухгалтерии не могут собрать информацию в одну табличку. Надо ведь разослать по школам и собрать то, что у них есть на третьем этаже.
С этим бороться сложно; я в какой-то момент пытался жить по принципу «Первых 2 письма – в корзину». Я в какой-то момент сумел сконцентрировать свои знания в своей голове, что с какими-то направлениями так поступать нельзя. Там начинает искрить через несколько часов, если на что-то не ответил. К 18 часам – вынь да положь – пришли ответ.
Но есть направления, которые нельзя игнорировать; одно из них называется «Наша новая школа» господина Адамского, не к ночи будь помянут. Александр Изотович сочинил такую штуку, в которой порядка 15 табличек, которые каждый может увидеть на сайте kpmo.ru. Это добровольный (!) общественный (!) мониторинг всех школ страны по разным направлениям. Можно посмотреть скорость Интернета в школе, количество учителей и завучей, среднюю зарплату, наличие столовой, есть ли электричество, вода, наличие и функции управляющего совета и т.д.
Я готов признать, Александр Изотович, что заполнять табличку про среднюю зарплату в месяц, наверно, имеет смысл ежемесячно. Но зачем заполнять ежемесячно (!) табличку про функции управляющего совета я не понимаю и никогда этого не пойму. Если у меня управляющий совет имеет функции, отмеченные галочками в октябре, то вряд ли эти галочки исчезнут в ноябре. И много других подобных вещей приходится заполнять ежемесячно. Притом, что достаточно было бы отмечать галкой, школа функционирует или она функционировать перестала, т.е. ее закрыли. Такая галка есть, и я, поставив ее, мог бы надеяться, что ничего мне дальше заполнять не надо, но нет – дальше еще 50 строк.
С другой стороны, они за два года исправились немного: некоторые строки уже заполнены, и я проглядываю, все ли заполнено без ошибок, но какое-то время назад их надо было заполнять, из месяца в месяц набивать циферки. Вот этот абсурд, «Наша новая школа», в том виде, в котором она есть, – я не против, чтобы была реальная картина про все школы страны, потому что для управления это нужная и полезная вещь, но этот проект не должен заставлять школу тратить на это безумное время. Тем не менее, приходится, потому что все искрит, ведь все в электронном виде. Сразу возникает дата, к которой надо все это заполнить, и сразу возникает список школ, посылаемый начальству городов, которые к нужному моменту что-то не заполнили.
А есть места, где можно два письма выбросить в помойку, и про это забывают иногда, не приходит третье письмо. Благодаря этому процентов на 40 можно уменьшить количество бумажек. Но у меня, во-первых, много времени уходит на эту деятельность, не столько, сколько бы мне хотелось. Во-вторых, отрицательные эмоции, которые возникают при заполнении этой ерунды, не влияют хорошо ни на здоровье, ни на школу и отражаются и на детях, и на коллегах.
Сразу отвечая на Ваш вопрос, могу точно сказать, что министерство не имеет к этим бумажкам никакого отношения. Департамент Москвы к этому имеет отношение, но не такое, чтобы это была главная пагуба. Пожалуй, наверно, в процентном отношении это выглядит так: технические службы – это главный источник всякой писанины – процентов 25, большая часть, хотя сама служба маленькая, пополам следующие 25 процентов делят окружное управление и город, а оставшаяся половина не знамо, откуда берущаяся, имеющая отношение не к табличкам, но к образованию – адреса электронных почт всех школ теперь появились в открытом доступе.
Более того, департамент и окружное управление многократно тиражируют эти адреса, и возникают поразительные истории. Одна из них меня поразила в самое сердце: я регистрируюсь на таком обязательном сайте, промежуточным между департаментом образования и московским правительством. Пишу, что ответственным за обновление информации на сайте будет некая Татьяна Анатольевна. Не успел я нажать на кнопку «Выход», а у меня уже замигала вкладка на моей почте, я прыг туда, а там написано: «Уважаемая Татьяна, поучаствуйте в анкетировании на нашем веб-сайте…».
Борис Долгин: Спасибо, встречал молодых людей, которые не идут работать в школы в том числе и из-за опасения бумажек, они об этом знают не понаслышке, а от коллег, которые там работают.
Сергей Бебчук: Я еще раз подчеркиваю, в нашей школе у учителя есть только блокнотик, куда он записывает отметки, и компьютер. Никаких журналов у нас нет.
Борис Долгин: Понятно. Еще вопрос: приводя пример с МХК и с ботаникой, мы выходим на более широкую проблему, о которой я бы хотел поговорить. Ботаника: вы сказали, что учитель должен работать не с гербарием, а с тем, что цветет и отцветает в сентябре и в мае, проводить уроки непосредственно на улице, на природе. Но это значит, что этот учитель сможет показать, возможно, только те образцы растений, рассказать только о тех образцах растений, которые растут в той природной зоне, где расположен населенный пункт. Та же история и с МХК: очень хорошо, когда есть возможность провести урок в музее, но у нас получается далее такая естественная привязка к тем коллекциям, которые есть в городе. К чему это я…
Сергей Бебчук: К тому, что возникает некоторый перекос…
Борис Долгин: Я бы сказал, к тому, что если возникает такая сильная неунифицированность материала, не факт, что это плохо. Но где видны границы этой неунифицированности? Я ни в коем случае не говорю про ситуацию «В один день, во всех школах страны», но, во-первых, где есть некоторый оптимум того общего тезауруса, который должны получать школьники в разных школах страны, и, во-вторых, как, на Ваш взгляд, соотносятся в образовании функции знакомства с предметной областью и знакомства с навыками обучения?
Сергей Бебчук: Это очень два дальних вопроса, я бы хотел последовательно…
Борис Долгин: По-моему, понятно, как они связаны, потому что если исходить из такой точки зрения, что не важно, какую часть ботаники как изучать, по какой дополнительной литературе начитывать, то в таком случае все в порядке. Но как бы из других позиций взгляда на образование это должно быть принципиально.
Сергей Бебчук: Моя позиция в отношении первого вопроса такова: очень хорошо, на мой взгляд, если ребенок будет знать ту природу, которая его окружает. Если он не будет знать ничего про пальмы, тогда он и не будет знать ничего про то, что его окружает, – обучение должно быть эмоциональным и живым, и тогда ребенок будет знать. Если все сухо, умно и далеко, то знать он ничего не будет. Дети про это замечательно говорят: «Прошли». Оборачиваются назад, а оно где-то там далеко осталось, и забыли.
Что касается музеев, то методологически очень важно, чтобы дети иногда работали с подлинниками, причем это важно не только для детей таких крупных городов, например, как Кострома, Новгород или Псков, не говоря уже о Питере и Москве, но для детей любого самого мелкого населенного пункта России, потому что только живое и настоящее соприкосновение с искусством, а это можно сделать только с подлинником, делает человека восприимчивым к искусству на всю жизнь.
Ребенка в школе надо научить быть активным потребителем, в хорошем смысле слова, искусства и культуры, а не делать так, чтобы он про эту сторону жизни никогда не думал. Он должен любить сходить в музей, послушать музыку, и без соприкосновения хотя бы несколько раз в жизни с реальными объектами, этого, к сожалению, не возникает. Никакая копия не заменит того волшебного, что возникает при общении с оригиналом. К сожалению, в нашей стране не все дети могут себе позволять часто бывать в музеях, но во многих местах могут.
Впрочем, есть проблемы, которые лежат за гранью моего понимания, но это постепенно лечится и моими усилиями – в частности. Я хочу проинформировать аудиторию здесь и всех зрителей и слушателей, что российским учителям в российских музеях запрещено вести уроки. Это было еще год назад. За последний год добились того, чтобы в Третьякове стало можно вести уроки, получив разрешение за огромные деньги – 3500 рублей за один урок, за какие-то деньги – в Пушкинском музее в Москве, но я процитирую коллег-директоров про Питер: «К учителям в Эрмитаже относятся как в Гестапо» - это цитата февраля 2012 года. Охранники выводят, выгоняют, предлагают заказывать экскурсии, а экскурсия не нужна – нужен урок. Нужен контекст до, контекст после, контрольную провести. Экскурсия – это монолог, а урок – это диалог. Я, вообще, лучше знаю, что моим ученикам нужно, нам не нужна обзорная экскурсия.
В Новгороде возникла ситуация, немного улучшающая жизнь; заплатив 200 рублей в каждой церкви Новгорода, можно проводить уроки. При этом в Уффици, в Лувре, в Прадо, в археологическом музее Каира, в археологическом музее Афин не только можно провести уроки бесплатно – там еще и отдельный вход для учителей с группами детей. А когда я узнал, что не только учителя Испании могут вести в Прадо уроки, а еще и российские для российских детей могут вести уроки, тут мне совсем за державу стало обидно.
Теперь ко второму вопросу про соотношение общего и частного…
Борис Долгин: И еще про первый: не возникает ли проблема несопоставимости тезауруса у детей из разных школ?
Сергей Бебчук: Возникает, слава Богу. Потому что, я еще раз подчеркну, лучше знать свое, чем не знать ничего. Лучше что-то знать, чем не знать.
Борис Долгин: Понятно. Тогда – второй.
Сергей Бебчук: Тут у меня позиция абсолютно «экстремистская», я не призываю к следованию нашей традиции, к ее копированию, повторению. Я считаю, что в школе надо учить таким умениям, которые универсальны, которые могут понадобиться через 20-30 лет, которые будут востребованы всегда и без которых жить невозможно. Как то: умение на один и тот же объект посмотреть с разных точек зрения, посмотреть и в телескоп, и в микроскоп, умение анализировать и умение синтезировать, то есть разделить на части, рассмотреть эти части и опять собрать вместе. Умение работать со справочной и научной литературой, умение работать в коллективе, умение работать в одиночку, умение кого-то слушать и умение отказаться от слуха и не идти по общественному мнению. Вот эти все умения и умение переключаться с одного на другое на почти машинальном уровне – с телескопа – на микроскоп, с умения слушать на умение не слышать – очень важны.
Например, мы знаем какой-нибудь иностранный язык хорошо, идем за границей, читаем вывески какие-нибудь, объявления свободно, мы не нажимаем у себя на виске кнопочку «сейчас я буду читать на этом иностранном языке». А когда мы язык знаем плохо, мы нажимаем такую кнопочку и говорим, что сейчас я буду читать по-французски или по-испански, и напрягаемся, и у нас вот так вот брови сводит. Надо научиться так в себе эти умения воспитать и переключать, чтобы это было естественно и легко. Вот так и любые школьные предметы – это исключительно поле для обучения этим универсальным умениям.
Поэтому все равно, какое содержание образования мы вкладываем в физику, в геометрию, в историю искусств. Берем триаду: геометрия, литература, история искусств. Они про что в этой связке? Как раз про синтез-анализ. Геометрия – наиболее простой из этой связки предмет: все детерминировано, все четко, никаких двусмысленностей, есть «дано», есть «надо», от «дано» к «надо» необходимо придти кратчайшим путем, используя определенные теоремы, леммы и предыдущие задачи. Литература в смысле синтеза-анализа существенно сложнее. Есть ассоциации, аллюзии, двусмысленности, текст заведомо не равен сам себе: мой текст прочитанный совсем не равен тексту написанному, текст многослоен и т.д. И история искусств уж совсем сложна. Всё тоже самое, что и в литературе, но еще и текст невербальный – поди переведи с того, что видишь на то, что можно сказать. Шлифуя внутри этой триады вот эти умения, получается такой интеллектуальный ниндзя, умеющий думать не так, как другие люди.
С другой стороны, эту идеальную модель в чистом виде осуществить не возможно. Конечно, надо всегда к этому стремиться, потому что мы не знаем, что понадобиться детям, которые учатся сейчас в школе, лет через 20. Да, надо стремиться как можно больше прочитать. Да, надо знать историю своей страны. Надо, конечно, познакомиться со всеми основополагающими примерами функциональной зависимости; надо, конечно, знать и периодические зависимости, типа синуса, косинуса, и про логарифмы понимать. Это все про окружающую нас жизнь, и чтобы ее понимать, надо это все знать. Но пичкать сотнями квадратных уравнений, например, – это бесполезное усилие, отнимающее у детей силы, которые необходимо потратить на изучение более важных вещей.
Если слегка смягчить позицию, то скажу, что знать принципы, на мой взгляд, важнее, чем знать факты. Но я, конечно, говорю, утрируя, потому что в истории или истории искусств, кроме принципов, надо знать факты. Надо знать художников, скульпторов, архитекторов, их взаимоотношения, движения стиля от рождения до смерти. В таком злобном, в таком жестком смысле утверждение «принципы важнее фактов» не работает.
Борис Долгин: Сейчас попробую подытожить и заодно пойму, правильно ли я понял. Итак, необходимо обучение методам и плюс к этим методам – я чуть хуже понимаю, как можно ограничить эти вещи, – необходима общая культура и, наверно, что-то вроде идентичности, поскольку вы упомянули историю страны.
Сергей Бебчук: Конечно, когда я говорил про историю страны, я имел в виду историю мира, хотя идентичность, безусловно, тоже важна. Люди, живущие в какой-нибудь стране, должны ее любить и знать, и то, что я говорил про музеи в частности с этим связано. Едем за границу и там попадаем в музей, а здесь попасть в музей нельзя. Получается, что все музейное пространство – за границей – беда.
Борис Долгин: А вот все-таки общая культура – самый непонятный для меня момент – я не совсем понимаю, как Вы его отграничиваете. Я понял, что туда, видимо, входит, в том числе какая-то фактура историческая, историко-культурная, но, скажем, почему историко-культурная, а не историко-научная?
Сергей Бебчук: Историко-научная – тоже. У нас в школе читается такой небольшой курс, начальный, для 7 класса, в котором немного есть истории науки, истории экономики. Он такой всеобъемлющий, его приходят читать разные учителя, но история науки, к сожалению, сейчас находится в загоне, да. Мы как-то пытаемся компенсировать этот недостаток, но количество уроков не резиновое.
Кроме того, есть ограничения субъективности учителей, которые преподают. Мы ведь начали со свободы? Так вот эта частная свобода, в том числе, влияет и на то, что преподается с субъективностью каждого учителя. Есть учитель, который достаточно серьезно интересуется, скажем, восточной культурой. Понятно, что у этого учителя точно не будет европоцентризма. А вот классический учитель, проучившийся в московском университете, будет явно подвержен европоцентризму. От субъективизма, вообще, многое зависит в образовании.
Я, например,на стенку лез от вариантов ЕГЭ по информатике, потому что последнюю, самую сложную задачу в этом ЕГЭ явно сочиняли люди, которые учились на АСУ 80-е годы, и для них чтение потока данных – главное, что должны знать программисты. И самая сложная задача состоит в том, чтобы прочитать входной поток данных. Это называется: «Я ненавижу и сделаю так, чтобы все остальные ненавидели».
Борис Долгин: Спасибо. К вопросу о ЕГЭ мы, может быть, чуть позже вернемся.
Андрей Летаров: У меня полтора взаимосвязанных вопроса, постараюсь их ясно изложить. Очевидно, есть некоторое представление о том, что школа должна, так или иначе, готовить своих выпускников к последующей деятельности в мире. При этом у нас нет четкого понимания того, каким у нас будет этот мир, и у меня возникло ощущение, будто вы хотите готовить школьников к жизни не в предсказуемом, а в каком-то идеализированном мире.
С другой стороны, мир, где управление образованием совершается оторванным от логики управляемого объекта, является некой данной реальностью. В этой связи я хотел бы задать Вам следующий провокационный вопрос: Вы говорите о том, что учитель должен иметь право быть честным, но он же, паразит, немедленно этим правом воспользуется и научит своих учеников, что врать нехорошо.
Но в мире, где система управления не является адекватной управляемому объекту, вранье является необходимым профессиональным навыком. Очевидно, что даже руководитель самого мелкого подразделения, для того, чтобы оно успешно функционировало, должен уметь врать. А вы же хотите не готовить детей к этому социально важному навыку. Как же тогда мы будем соответствовать задачам подготовки к грядущей жизни?
Сергей Бебчук: Да, я понял, вопрос, конечно, провокационный, но я отвечу на него не менее провокационно. Дело в том, что можно не врать, будучи умным. Объясняю: умный человек, во-первых, обладает умением, которое у него возникло из курса физики, которое учит определять, что есть, а что не есть система. То есть, какие связи важны, а какими связями можно пренебречь. Умный человек это хорошо воспринял, и он понял, в какую дверь к какому начальнику надо идти, а к какому не стоит идти, потому что он всё равно ничего не решает. А, сконцентрировав усилия, можно обойтись без вранья.
Во-вторых, умный человек понимает, что вот здесь надо промолчать, а вот здесь лучше вообще и уйти, чтобы ничего не спровоцировать, и чтобы не заставили говорить неправду и т.д. К сожалению, да, предстоит умным людям постоянно осуществлять моральный выбор, конечно, их жизнь будет вынуждать принимать непростые решения.
Скажем, вместо того, чтобы работать вот в этом месте с хорошей, но жульнической зарплатой, пойти в другое место, где зарплата вдвое ниже, но где работают нормальные честные ученые. То есть, вы хорошо знаете, что есть места, где золотой дождь, но нет науки, а есть места, где денег не так много, но у людей глаза горят. Это частный выбор. Собственно, у нас в школе преподаватели сделали выбор: они пришли из мраморных колонн и показывают, что для них дух важнее, чем всякое разное внешнее и материальное.
Но если напрямую, то врать нехорошо. Мы с детьми про это постоянно говорим, это норма наших взаимоотношений. Наверное, вы даже в курсе, что в субботу (Ред. накануне лекции) у нас была игра, и произошло списывание. Я был просто обескуражен. Я в понедельник говорил про это с ребятами и поблагодарил тех, кто вранье и списывание пресекли. Это списывание произошло внутри детских команд, но, тем не менее, это на игре произошло, не на олимпиаде, не на экзамене. Эти разговоры про честность, мне кажется, влияют на людей. Они по-другому относятся к себе, они себя уважают, им приятно. Дорого стоит себя уважать – другие завидуют.
Борис Долгин: Позволю себе маленькую критику вопроса. Мне кажется, в нем были смешаны технические навыки и обучение им и ценностный выбор. Можно обучить навыкам и привить какие-то ценности, заключающиеся в понимании, что лучше этим навыком не пользоваться, кроме каких-то определенных целей.
Сергей Бебчук: Да, можно не привить ценности. Но мы прививаем ценности. Не назидательно, нам так хочется, не всегда у нас получается.
Иван Быков: У меня не вопрос, а даже небольшое уточнение. Хотелось бы вернуть Вас к бумажной теме: я учился в школе достаточно недавно и помню, как некоторые учителя долго и упорно жаловались на то, о чем вы давеча рассказывали. Вы говорили, что тратите на бумажки больше времени, чем Вам хотелось бы на них тратить. Хотелось бы в этой связи побольше конкретики: т.е. это 20 минут в день? Или вы настолько ненавидите бумажки, что даже эти 20 минут на них не готовы потратить? Или это час, полтора часа?
Сергей Бебчук: Да, я понял. В среднем в году я трачу на бумажки вообще, наверно, часа полтора-два в день, из них на ненужные бумажки – час. В качестве примера: сегодня я заполнял базу данных наших выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ; это нужные бумажки, я прекрасно понимаю, зачем они нужны; там надо ввести паспортные данные, ФИО, год рождения и т.д. На это полчаса ушло. А еще час я как раз занимался всякой ерундой, не имеющей никакого отношения к функционированию школы. Я заполнил табличку про чистку кровли, дорожек по 50 сантиметров от бордюра до сугроба, высота сугроба не больше 80 сантиметров… Я серьезно отвечаю, и это грустно, да. На все кругом-бегом ушел приблизительно час, и так приблизительно каждый день.
Есть 2 месяца в году, когда количество этого всего существенно увеличивается: с 20-го августа по 20-е сентября, и там катастрофа. В школе, например, есть комиссия по аттестации учителей. Если у меня нет текучки, мне не нужно эту комиссию ежегодно переутверждать; я издал приказ, в котором написал, что эта комиссия действует вечно до тех пор, пока никто не уволится и не умрет. Имею право, правильно?
Но почему-то, когда заполняются бумаги на первую или высшую категорию, требуется, чтобы приказ был свежий – им не нравится, когда приказ, скажем, 94-95 года, не говоря уже про приказ, про пожарную безопасность, про списание, про гражданскую оборону, и опять приходится назначать комиссию из одних и тех же людей. В итоге мы завели папку, которая называется «Приказы, которые надо переобновить на следующий год». Теперь, правда, это стало достаточно легким делом – поменять 2 на 3, 1 – на 2, в текстовом редакторе сделать это не трудно, не то, что перепечатывать на машинке – но, тем не менее, времени на это уходит много.
Еще 3 недели – с 20-го мая по 15-е июня, где куча мало вразумительных отчетов. До последнего года, допустим, собиралась информация в каком-то таком странном разрезе: сколько человек учатся на четверки и пятерки, сколько – на двойки и тройки; притом, что с 1992 года действует закон об образовании, согласно которому выставленные отметки являются исключительной компетенцией школы. То есть можно отметки ставить буковками, цветными квадратиками, коровками, барашками, по одиннадцатибальной, пятнадцатибальной, двадцатипятибальной системе, это абсолютно наше дело, какие у наших учеников отметки. Я не понимаю, зачем нужна такая табличка – у нас в школе вообще одиннадцатибальная система.
Андрей Солдатов: Я немного опоздал, поэтому извиняюсь, если какие-то вопросы вы уже осветили. Вы свою концепцию, конечно, излагали для школ очень высокого уровня…
Сергей Бебчук: Категорически нет.
Андрей Солдатов: Тогда где вы найдете такие школы, учителей и учеников?
Сергей Бебчук: Вы слышали мой пример про город N?
Андрей Солдатов: Вы сами сказали про три школы из восьми. Что с остальными пятью?
Сергей Бебчук: Секундочку, вот, если бы во всех восьми школах людям была бы предоставлена нужная свобода, то не было бы и разделения на пять и три? Я как раз к этому и клоню.
Я много путешествую по стране. Иногда забираюсь в такие дыры – мало не покажется. В очень глухой деревне, 150 домов, в Архангельской области есть такая школа, в которой работают обыкновенные учителя, закончившие Архангельский педагогический институт, которая 100 очков даст очень многим московским школам. Двухэтажная школа, учителя – ах!
Мы с колоссальным наслаждением таскаем их по Москве. Они приходят ночевать к нам в школу и падают от усталости, потому что меры не знаем мы, насколько нам с ними интересно! В этой школе замечательный директор, который понимает то, о чем я говорил только что, который позволяет учителям и то, и другое, и пятое, и десятое. Когда мы к ним едем, обязательно везем что-нибудь в подарок: какие-нибудь диски по истории, биологии, новые разработки, потому что там это все востребовано. А есть школы, которым ничего не надо, в которых – шаг влево, шаг вправо – расстрел. И одно и то же из года в год, и скучно до безумия! Конечно, это будут плохие школы в городе.
Андрей Солдатов: Ну, это же упирается не только в учителей, но и в учеников. Готовы ли вы взять на себя смелость сказать, что если найдутся учителя, которые будут отвечать заявленным вам критериям, то 100% учеников вслед за ними будут интересоваться фресками Гоццоли, историей науки – так или нет?
Сергей Бебчук: Да, так. Я не буду отвечать за других учителей – у меня есть собственный опыт. Я могу совершенно ответственно сказать, что я могу прийти в любую школу и по предоставленной мне свободе по предмету «информатика» к концу 9-го класса сделать так, чтобы, сдавая государственную итоговую аттестацию, 100% получили как минимум 5 баллов по пятибальной системе. Не считая детей, которые просто по медицинским причинам не могут осваивать программу. У меня был мальчик, когда я работал в обычной школе, который за урок, за 45 минут, по точечкам в тетрадном листе рисовал одну букву. Я рисовал контур буквы А, и он за 45 минут успевал этот контур обвести – я таких детей не могу научить.
Но, взяв класс из нормальных учеников, я гарантирую, что 100% класса получат 5 баллов. А в хорошей школе я поставил другую планку: в этом году у нас будут сдавать ГИА по информатике 100% класса; их планка – набрать 100% баллов. Не пятерку, пятерка начинается с 20 баллов из 22, а все 22 балла. А если говорить про интерес к предмету, то он возникает не от того, каков уровень ребенка. Дети разные интеллектуально, социально. Кто-то читает литературу про приключения, математикой не интересуется. И что же нельзя зайти со стороны приключений так, чтобы его зацепила математика?
В Москве найдутся сотни учителей, которые сделают это на раз; придумают задачи про бутылки рома, сундуки мертвецов. Потому что для учителя уметь придумывать увлекательные задачи – детский сад!
Андрей Солдатов: Тогда давайте задам еще один короткий вопрос: что одно и самое важное надо сделать, чтобы образование стало таким, каким вы его описываете?
Сергей Бебчук: Ответ очень простой: директорам и учителям нужно доверять. Нужно считать, что они пришли в школу и знают, что нужно сделать. А не под кремлевской звездой «мы знаем всё про все школы». И правила игры: общество должно договориться, что мы хотим от школы; социальный заказ должен быть сформулирован совершенно явно. То есть, если обществу удалось договориться, что нам нужно начетничество, – и тогда главным критерием успешного окончания школы мы считаем успешную сдачу ЕГЭ – это один договор. Если мы договоримся, что дети должны выходить из школы гражданами, которые идут на выборы, считают, что от них что-то зависит, а не считают, что «моя хата с краю», то в конце школы должна быть другая проверка, другой общественный договор. Если мы договоримся с обществом, что нам нужно, чтобы люди выходили из школы честными, порядочными и добрыми, это третья проверка после школы.
Поймите меня правильно – это 3 взаимосвязанные вещи, они не исключают друг друга.
Но нет этого общественного договора, поэтому проблемы, которые искрят, во многом существуют из-за отсутствия такого договора, потому что одним не нравится что-то, другие говорят, школа стала слишком мало заниматься воспитанием, третьи говорят, школа не учит быть гражданином, не учит быть честным – люди выходят из школы и думают: «Пусть другие что-то решают, а мы как-нибудь устроимся».
Отсутствие консенсуса в понимании философии образования в широком смысле этого слова – того, что нужно получить от школы, – является большой проблемой. Поэтому мой тезис про то, что нужно доверять, он, конечно, подвисает, потому что надо договориться о правилах, а о правилах не договариваются. Я не знаю, намеренно или нет, – я боюсь ходить в эту сторону, потому что складывается ощущение, будто намеренно не договариваются. Когда мутная водичка, в ней легко ловить рыбку.
Юрий Васькин: Я бы хотел коснуться социальной стороны школьного образования. Вы сказали, что нет социального заказа.
Сергей Бебчук: Договора. Что хотим от школы.
Юрий Васькин: Кто должен его формировать? Я так понимаю, что Вы его сами и обозначаете в своей работе. Вы сами знаете, кого вы хотите видеть из своих учеников и коллектив каким-то образом сплачиваете? Ну, и хотелось бы узнать насчет статистики: вы ведь наблюдаете за судьбой своих подопечных, как они реализуются после выпуска из школы? Становятся ли они участниками общественной жизни или ограничиваются сидением перед телевизором? Как обстоят дела с социальными пороками; с курением, наркоманией?
Сергей Бебчук: Социальный заказ, на мой взгляд, – термин не совсем адекватный, потому что мне позиция, что образование – это услуга, если честно, очень не нравится. Образование – ценность, которая не может определяться словом «услуга». Поэтому хотелось бы, чтобы образование определялось не заказом, а договором.
Этот договор совершенно не должен быть федеральным, не должен являться обязательным, чтобы все люди страны об этом договорились, но люди какой-то части страны, конечно, безусловно, должны договариваться. Есть бюджет какого-то субъекта федерации, и как этот бюджет тратить, нашего субъекта, на что его тратить, хотелось бы, чтобы люди договорились.
Страна большая, страна разная. Люди в Псковской области могут хотеть образования, отличающегося от того, которое хотят в Краснодарском крае. Но в рамках общего федерального стандарта – надо научить всех этому, этому и этому – договор общественный, конечно, должен возникать. Больше ручного труда, чем умствования, больше учебы, чем воспитания или наоборот – вот его проявления. В атомизированных мегаполисных семьях думают, что воспитание – это забота семьи, а в каком-нибудь Мышкине захотят, чтобы функции воспитания на себя частично взяла школа. Поэтому договор – абсолютно необходимая вещь.
Теперь про выпускников. Мы еще в начале 90-х годов пытались определить нишу в образовании, которую мы хотели бы занять, и пока нам кажется, что мы не ошиблись. Эта ниша, наверно, может быть так сформулирована: наша школа готовит первопроходцев. Такие разведчики – всегда могут быть впереди, всегда смело идут в неизвестное. Таких школ, понятно, должно быть две-три на всю страну.
В общем, выпускниками мы довольны. Многие из них работаю достаточно первопроходчески. Некоторые стартуют быстро, некоторые – не очень, иногда потому что этот старт не очень возможен, но в целом достаточно первопроходчески. Не буду приводить никаких примеров, потому что про выпускников у нас написано очень подробно на нашем сайте.
Зайдите, там про три четверти выпускников точно найдете информацию. Все выпускники сами про себя писали. Одно резюме – так, наверно, надо называть этот жанр – пришлось, впрочем, подредактировать, поскольку наша выпускница написала про себя слишком скромно: «Специалист в области авиационной безопасности». А она еще в своем студенческом дипломе разработала психологический способ защиты аэропортов, здесь в России ее проигнорировали. Она предложила в Израиле. Там внедрили.
Последний вопрос был про социальную девиацию. Отчего дети курят?
Юрий Васькин: Вокруг то же самое? Разруха?
Сергей Бебчук: Не поэтому. Дети курят, потому что хотят быть взрослее, чем они есть на самом деле. Такой способ повзрослеть быстрее, псевдовзрослость. Если вы предоставите в школе детям возможность быть взрослыми на все сто, чтобы они этой взрослостью просто захлебнулись бы, зачем им тогда курить? Если дети в школе полностью отвечают за питание, за чистоту, если учитель в школу не приходит, а дети учатся, то зачем им курить? Конечно, из шестидесяти пяти найдутся два-три, которые курят, но в школьных правилах написано: «Запрещается попустительствовать курению школьников». Директор не может предоставить им место для курения. Но при этом не написано: «Запрещено», потому что известно, чем запрет кончается.
Что касается всего остального, то тут так: у нас было однажды в течение недели-двух увлечение чего-то нюхать, года 3 назад, на зимних каникулах, но это дети сами и пресекли. Взрослые об этом узнали, когда все кончилось. А проблемы с алкоголем совсем нет. У нас это не очень запретный плод. В новогодние праздники, поскольку много родителей, тем, кому есть 14, могут налить немного глинтвейна. Запретный плод перестает быть сладким, когда нечего запрещать.
Юрий Васькин: Не подскажите сайт школы?
Сергей Бебчук: www.liga1199.ru. Там есть рубрика «Выпускники». Если говорить про всякие асоциальные вещи, то с ними проблем немного. Нас больше захватывает проблема обратная – инфантилизм. Ребенок становится настолько социальным, в кавычках, в нашем понимании, а в понимании родителей – без, что просто беда.
Если раньше, скажем, лет 15 назад, один человек, поступивший к нам в школу, до двенадцати лет не оставался ни разу один дома, ни разу в жизни не ездил на метро, не знал, что такое светофор, – это был нонсенс, то сейчас таких людей в классе ежегодно около восьми. Один человек из класса, кстати, ежегодно не знает, что такое светофор, потому что его бабушка через дорогу переводила за руку. А мы, скажем, с детьми в Третьяковку поехали поучиться, потом отпускаем одних домой – катастрофа.
Сейчас мы вынуждены за 3 месяца до начала учебы, в июне, разговаривать с родителями, чтобы давали ребенку возможность проехаться одному на метро без и с пересадкой, давали какие-то поручения. Иначе к 12 годам вырастает социальный инвалид. Это обратная сторона попытки оберегать ребенка от курения, от улицы. Все время под крылом, ходи на кружок, сиди дома читай, до школы – на машине, из школы – на машине. Я называю это словом «катастрофа» без преувеличения.
Борис Долгин: Скажите, пожалуйста, а вы никогда не встречали директоров, которым нельзя давать свободу? Которые еще больше усилят поборы, еще в меньшей степени будут контролировать то, чтобы все предметы, которые есть в учебной программе, преподавались? Что-то в этом роде. Как в связи с этим разобраться, где – свобода, а где – контроль?
Сергей Бебчук: Сталкивался. Главная проблема – отсутствие честности. Т.е. проблема в том, что родители, начальство не очень понимают про тот субъект образовательного пространства, который перед ними – детский сад, школа или институт. Чем хуже субъект, тем больше вероятность, что он покроется разным враньем. Потому что накажут, если не прикрываться враньем, а возможность врать есть. У плохого места всегда есть тенденция к ухудшению, потому что нет никакой обратной связи, и возникает ситуация, при которой плохое место становится бесконтрольным и год от года становится еще хуже. Хорошо, что сейчас появились попытки восстановить проведения независимых тестирований учеников. Эти попытки стали более формальными и антикоррупционными в пожеланиях.
Не скажу, что получилось, – те, кто умеют и хотят обмануть, обманут. Жалко же: проводится ЕГЭ, есть комиссия общественных наблюдателей, в которых работают родители чьих-то детей, они видят, что дети списывают, и не пресекают. Ответ именно такой – жалко же! Они получат высокий балл, отодвинут тех, кто сдавал честно – но жалко же! Отсутствие честности – это беда номер один. Ведь когда на официальном уровне неизвестно, почему так происходит, то самый лучший способ борьбы – отнять всякую свободу. Отсутствие честности – отнять свободу у всех, перестать всем доверять. А отсутствие доверия плохо скажется на образовании, потому что оно идет в паре с прямолинейными и очевидными решениями.
Как бороться с коррупцией – прекратить всякое общение людей, которых проверяют, с теми, кто проверяет. Это же такое примитивное решение, потому что существуют места вне учреждений, электронная почта, интернет и масса всяких других способов общения помимо мест, где проходит эта запретная граница. Кроме того, все же работают в одном сообществе. Максимум – 2 шага – у всех есть знакомые, которые знают, к кому надо обратиться. Поэтому все эти антикоррупционные попытки абсолютно негодные.
Борис Долгин: А что тогда делать? Какой может быть управленческий способ наладить эту обратную связь? Как можно добиться этой честности?
Сергей Бебчук: На мой взгляд, есть ряд тактических решений, которые, конечно, не претендуют на стратегию, но могли бы быть применены. Во-первых, свобода должна идти за результатом. Эта норма должна быть открыта, декларирована, должна иметься договоренность, что мы считаем результатом. В условиях, когда все пытаются обмануть, надо попытаться придумать такие критерии, которые противостояли бы обману. Пока все эти критерии примитивны и лапидарны. Такие примеры борьбы с коррупцией – учреждение ЕГЭ и ГИА, однако мы знаем регионы, где статистически понятно, что результаты нечестно получены.
Тем не менее, в краткосрочной перспективе, если бы этот принцип соблюдался, мы имели бы положительный эффект. Потому что плохой школе, обманывающей, свобода, по большому счету, не нужна. Она не понимает, что с этой свободой делать, директора, наверно, никогда не пользовались Московским учебным планом, который предоставлял исключительную по сравнению с федеральным планом свободу – такую, которая почти равна той свободе, которая предоставлялась школам с 1992 по дето 2002 года.
Летом 2002 года в законе об образовании появилась норма «базисный учебный план»; до этого все школы страны были свободнее. Московский учебный план проигнорировал эту федеральную норму. В нем куча лазеек, норм которые противоречат федеральному плану. Тем не менее, масса московских школ этим базисным планом не пользовалась. Они просто приходили в окружное управление и сдували план, сделанный какими-то другими московскими школами, и транслировали к себе в школу, не разбираясь, какие учителя работают в школе, что нужно детям, как заточить образование в этой конкретной школе и как его поднастроить под этот кадровый состав.
Вот это все московский учебный план позволял, и многие директора московских школ им не преминули воспользоваться. А другим свобода не очень нужна. Они склонны пользоваться какими-то кальками и клише, и если в краткосрочной перспективе они будут предоставлены сами себе, то возникнет некоторое понимание, репутация – назовем высоким словом – у каких-то школ, как школ дающим детям что-то полезное, репутация улучшится, а у каких-то ухудшится.
Например, хорошее здоровье как физическое, так и психологическое – правильные ценности. Если школа сумела это дать, несмотря на то, что ЕГЭ сдан на 40-50 баллов, и родители довольны детьми, а сами дети отзывчивы; не пьют, не курят, готовы пойти работать в хоспис, то слава богу. И в таких школах у учителей заведомо есть свобода, потому что если бы свободы не было – вилкой в горло – 60 баллов на ЕГЭ. Тогда дети возненавидят учебу и вряд ли вырастут добрыми.